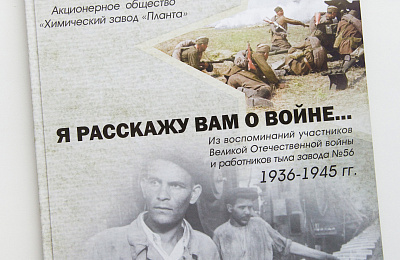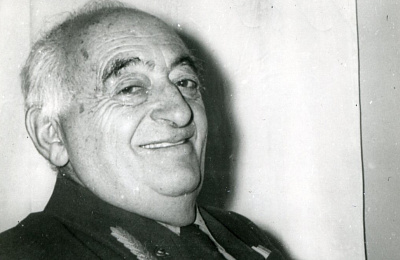Я родилась в 1940 году. Выросла, закончила школу №32, вышла замуж – все это на моей улице Пархоменко.
Мой отец Сергей Алексеевич Бушин - участник Великой Отечественной войны. На фронт ушел добровольцем из рядов Советской Армии (служил в Новосибирске). 7 ноября 1941 года с парада на Красной площади пошел сразу в бой. Столицу отстояли. Затем попал в разведку. Фамилии Бушин немцы боялись на передовой так же, как Гитлер боялся фамилии Левитан (об этом была публикация в газете «Тагильский рабочий» в 70-е годы). Подполковник из Новосибирска писал: «Отзовись, разведчик Бушин С.А.» Но папа не мог ответить долгие 25 лет (дал подписку о неразглашении). Вернулся домой в конце 1943 года, весь седой, раненая левая рука не действовала. Ему было всего 23 года. Служил в войсках НКВД. В этих же войсках всю войну служила моя тетя Анна Алексеевна Маркова, в девичестве Бушина. Работала на заводе №63 (ВМЗ) в охране вагонов, перевозивших вооружение на фронт. Неоднократно снимала с них мины.

Фото с фронта. Однофамильцы Бушины, Сергей Алексеевич – первый справа.
Дедушка Алексей Павлович Бушин всю войну работал кузнецом в кузне горно-металлургического техникума. Вместе со студентами ковали подковы, а затем подковывали лошадей колхозам стороны Лаи и Горноуральска.
Работали по 16 часов в сутки. Жили на полученные продовольственные карточки, которые не всегда удавалось отоварить в магазине №6 по улице Ленина.
1942-й и 1943-й выдались тяжелыми. Зимой - сильнейшие морозы, в остальное время лили дожди. Копали картофель, проваливаясь в грязь на полсапога.
Дров в это время на заводе давали по два полена. Печи топить было нечем. У нас стояла буржуйка, труба от нее выходила в дымоход камина. Все сидели вокруг нее, грелись, а потом ложились спать. Я спала в пальто, шапке, носках. Снимала только валенки. Пока топилась буржуйка, на ней жарили картофельные очистки, иногда ставили маленькую сковородку, наливали рыбий жир и обжаривали кусочки хлеба. Свет включали в домах только с 12 часов ночи. В основном пользовались лучиной. По улицам ночами ходили дозоры: мужчины с баграми и дети с трещотками. Охраняли дома от бандитов, воров, караулили крапиву и лебеду, которые шли на супы и лепешки. На воду получали талоны, ходили на водокачку, она была во дворе руководящей конторы НКВД (ул. Карла Маркса). Стояли в две очереди: одна с бочками, другая с ведрами.
В одну из весен не было семян. Сход улицы решил организовать обоз из пяти-шести лошадей и отправить его в Семипалатинск. Погрузили вещи, чтобы выменять их на семена, и обоз уехал. Долго не было от них вестей. Пошли слухи, что в степи много волков и они обозников рвут. На улице траур, слезы… не слышно детей, мы приуныли, старались не шуметь. Вдруг кто-то кричит: «Едут, едут!» Что тут было! Целовались, плакали. Привезли семена, огороды засадили, радости не было предела. Ребятам приезжие выдали по половинке яблока, хоть и загнившего, но это было чудом!
Улица ожила, но пришла разнарядка: сдать листья капусты и свеклы, чтобы варить суп для служащих 63-го завода, так как они получали меньше, чем работники цехов. Служащие вели учет, оформляли документы.
С 1943 и до конца войны по нашей улице каждую ночь шли танки на Сан-Донато. Они прыгали, как лягушки, такие были выбоины на дороге. Стены домов тряслись, всякий раз мы думали, что могут рассыпаться. Мама молилась, а папа говорил: «Силища-то какая, мы победим!» В это время я ощущала гордость за свою страну.
В 1944 году к нам стали поступать ленинградцы. В дом к дедушке поселили двух человек. Очень больных. Они были распухшие от того, что ничего не ели, пили одну воду. Ноги у них были как столбы. Дедушка перегородил кухню, чтобы ленинградцы не могли что-нибудь взять. Ведь им нельзя было есть досыта. А они, увидев хлеб или картошку, просили, плакали.
На лето после посадки в семье осталось три ведра картошки. Бабушка радостная – семье хватит до новой. А дед сказал: «Мамка, надо отдать ленинградцам и выходить их».
Советская власть (хоть ее и ругают сейчас) заботилась о нас, детях. Нам выдавали рыбий жир, китовое мясо в баночках. По улице Ленина (где сейчас магазин «Домострой») была молочная кухня. Там варили синюю манную кашу на воде с сахарином. Получали ее с 1944 года постоянно. Каша была очень жидкая. Забрав ее, мы, дети с улицы Пархоменко, заходили в сквер напротив молочной кухни, садились на травку, и каждый из своего бидона пил эту кашу. Было очень вкусно и сытно.
Во время войны ходили по городу страшные болезни – тиф и менингит, от которых была большая смертность. В этот период ездили дезинфекционные машины и забирали в санобработку одежду. Много детей умирало.

1944 год. Подруга Тамары Нина Абрамова умерла от менингита.
В школу я пошла в 1948 году. Мама сшила мне платье и сумку (вместо портфеля) из овощного мешка. Чернила делали из сажи, которую доставали из дымохода. Каждое утро учительница Анастасия Артемьевна Ожиганова заставляла нас выкладывать обед на подоконник. А в большую перемену просила поделиться едой с другими ребятами. Сама отламывала кусочек от своей ватрушки. Ее пример и сейчас заставляет меня делиться последним с людьми. С 1950-го в школе уже давали булочку и стакан чая бесплатно.
День Победы отмечали всей улицей. Утром началась стрельба, народ высыпал из домов. Отовсюду доносились крики: «Победа, победа, конец войне, ура!» Люди плакали, смеялись, пили, пели, играли гармошки до самого вечера. Такого торжества в моей жизни больше не было.
Как можно забыть сейчас наших потомков – дедов, отцов, матерей, сыновей, дочерей и разрешить переписывать историю Великой Отечественной войны? Никогда! Мы, дети войны, еще живы и стараемся рассказывать правду.
Тамара МОРОЗОВА.
На верхнем фото: Тамара Морозова в молодые годы.